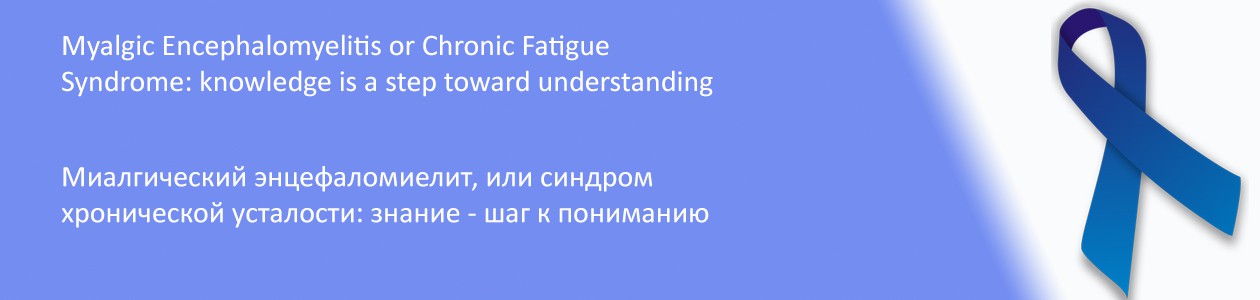http://blog.ted.com/illuminating-an-illness-without-end-fellows-friday-with-jennifer-brea/
Три года назад Дженнифер Бреа, тогда студентка факультета психологических наук, свалилась с тем, что на первый взгляд казалось тяжёлым гриппом. Как стало понятно потом, это было началом долгой болезни, которая включала в себя неврологическую дисфункцию и невероятный упадок сил, и от которой ей по-прежнему предстоит восстановиться. Обнаружив, что в медицинском сообществе эта болезнь не признаётся и что хуже, расценивается как истерия, Brea провела собственное исследование и обнаружила, что у её симптомов есть название: миалгический энцефаломиелит (МЭ), разрушительная, непонимаемая и игнорируемая болезнь, с которой сталкиваются миллионы людей.
Чтобы привлечь внимание к тем, кто страдает от МЭ, Бреа снимает фильм под названием «Canary in a Coal Mine» (Канарейка в шахте). Он даёт зрителям возможность увидеть, каково людям жить с этой инвалидизирующей болезнью. Несколько дней назад была запущена кампания на Kickstarter, которая уже практически достигла своей целей – явный знак, что пришло время для этого фильма. Brea рассказала TED Blog свою историю.
Когда Вы заболели?
В первый раз я заболела в 2010 году. Больше 10 дней у меня держалась температура 40,3 больше 10 дней. Годом позже, в 2011 году, я была в ресторане с друзьями. Нам дали чек, но я не могла поставить подпись. Я смотрела на бумагу и не могла пошевелить рукой. Я поняла, что не могу больше рисовать линии или круги. В течение следующих нескольких дней временами я, оставаясь в сознании и понимая всё, что мне говорят, не могла думать ни на одном языке. Как собака. Я могла понимать речь и в целом составлять представление о вещах и картинах, но в моей голове не было монолога.
Это звучит ужасно.
Думаю, в чём-то это было хорошо, потому что я не могла бояться происходящего. За эти годы я поняла, что чтобы испытывать страх, нужно уметь думать о будущем, а для этого нужен язык. Нужно будущее время. Может быть даже прошедшее. Я жила в настоящем, и это всё.
Мой невролог сказал, что у меня конверсионное расстройство; моя болезнь вызвана стрессом или психологической травмой, которую я могу даже не вспомнить. Хотя мои физические симптомы были настоящими, не было органической основы. Всё по Фрейду.
Не очень хорошо это говорит о врачах.
С начала фильма я стала гораздо более понимающе относиться к врачам, потому что это не их вина. Это продукт их обучения. Их учат лечить известные болезни, лечению же моей болезни в медицинской школе не обучают. Так что они не могли положить меня в отделение, не могли лечить меня.
И всё же я была в школе. Впервые мне не верили на слово, впервые меня так унижали. Я начала думать – если со мной, учитывая мою личность, образование и положение, так обращаются все эти доктора, то что, чёрт возьми, происходит с людьми по всей стране? Чтобы случилось, если бы я посещала общественную клинику или жила в деревенской местности? Что, если бы у меня не было образования, благодаря которому я испытываю чувство, что могу бросать вызов власти предержащим? Это одна из причин, почему я хотела сделать этот фильм.
Переживая этот опыт, я искала информацию. Я получила образование в области политических наук, но также у меня степень в статистике, так что у понимаю, как читать и понимать исследования. Мы с мужем постоянно читали. Мы приходили к врачам с кипой статей из журналов, и они говорили: «Где вы нашли это, в интернете?». И я отвечала: «Да. Вот статья из Nature, вот из Science, вот статья из New England Journal of Medicine». Один из врачей хмыкнул и швырнул статьи на пол. Да, я была наивна – не понимала, что большинство докторов не читает медицинские журналы. Так система не работает. Даже один исследователь – фантастический врач – не читал ничего, что было сделано в связи с моей болезнью людьми в других областях. Она специализировалась в области инфекционных болезней и не читала того, что происходит в иммунологии или области желудочно-кишечных расстройств.
Какая разница между синдромом хронической усталости и МЭ?
Синдром хронической усталости – название, появившееся в 1988 году в ответ на серию вспышек, самая заметная из которых произошла в Инклайн-Вилладж, Невада, в 1984 году. И очень жаль, не только потому что название не очень, но потому что уже было международно-признанное название болезни – миалгический энцефаломиелит; к тому же это название ничего не говорит о наиболее серьёзной неврологической и автономной дисфункции, с которой многие из нас сталкиваются. Так что некоторые из наиболее разрушительных симптомов считаются невозможными, потому что не входят в определение.
Это ужасное название и исключение тех симптомов означает, что многие люди с диагнозом СХУ, скорее всего, не больны МЭ. Многие люди хотят соединить синдром хронической усталости, фибромиалгию и ряд других болезней в одну группу. Думаю, мы должны изучать людей, которые похожи в плане их историй и симптомов, и прекратить говорить «всё это очень туманно», когда сами напускаем туман.
И всё же я думаю, что чёткий диагностический критерий полезен для клинических испытаний, но вреден для лечения. Наши тела не могут отрицать медицинских границ, как и на мой взгляд, многие болезни. Например, я самостоятельно нашла, что то, что скорее всего сейчас происходит со мной физиологически, имеет много общего с некоторыми особенностями рассеянного склероза, СПИДа, диабета и некоторых генетических митохондриальных заболеваний. И кто бы подумал, что литература по этим случаям должна соотноситься друг с другом? Но должна.
Когда МЭ получил своё название?
В медицинской истории с 1930-года задокументированы сотни вспышек МЭ в таких различных точках земного шара, как Лос-Анджелес, Южная Флорида, Исландия, Лондон и Дурбан. В 1930-х годах доктора решили, что имеют дело с новым видом полиомиелита; и действительно, часто вспышки МЭ возникают вместе со вспышками полиомиелита. Были даже написаны статьи, как отличить «типичный полиомиелит» от этой новой болезни.
В 1955 году была вспышка в Лондоне в Королевском свободном госпитале. Медсёстры и доктора – но в основном медсёстры – стали жертвами этой болезни, и доктор, которые лечили пациентов, начали писать отчёты и проводить исследования. Примерно в тоже время произошли вспышки в Исландии, в Шотландии и Дурбане. Исследователи писали об этом и делились информацией в медицинских журналах, цитировали друг друга. Люди знали, что это происходит.
Болезнь часто получала название по месту, в котором возникала – болезнь королевского свободного госпиталя или исландская болезнь. В 1956 году Мелвин Рамсэй ввёл термин «миалгический энцефаломиелит», myalgic encephalomyelitis. Myalgic означает мышечная боль, encephalo означает мозг, myelitis означает периферическую нервную систему, позвоночник и т.д.
МЭ был признан Всемирной организацией здравоохранения и получил свой диагностический код в международной классификации болезней. Так что есть диагностический код в Америке, который можно использовать, но никто не использует.
В середине 1980-х была вспышка МЭ в Инклайн-Вилладж, Невада, маленькой деревне рядом с озером Тахо, где несколько сотен людей за несколько лет столкнулись с серьёзной болезнью, напоминающей грипп, которая развивалась в странные неврологические симптомы, типичные для МЭ. Болезнь оказывала влияние и на их когнитивные способности, способность складывать и вычитать, говорить и писать. Врачи позвонили в центр по контролю и профилактике заболеваний и попросили приехать его представителей, потому что у них происходит что-то странное. Когда приехали эксперты из центра, они не смотрели пациентов. Они посмотрели на таблицы и сделали вывод, что имеют дело с массовой истерией.
Знаем ли мы сейчас, что становится причиной? Если это вспышка, это должна быть либо инфекционная болезнь, либо экологическая болезнь.
Возможно, и то, и другое. Сперва об инфекционном компоненте. Есть много случаев, когда речь идёт о временной и пространственной близости: пятеро учителей в столовой, или четверо детей, которые отправились на зимнюю рыбалку, а вернулись совсем другими. Когда это видишь, думаешь: заражение.
Никто не знает, что это за вирус. Я могу сказать из разговоров с исследователями, что триггером может быть один из нескольких вирусов в одной семье вирусов. Это может быть энтеровирус или вирус герпеса, которых несколько. Сложность в том, что у человека с МЭ присутствует высокая концентрация разных вирусов, которые могут вызвать неприятные неврологические последствия. Это распространённые вирусы, которые появляются у большинства людей только когда те достигают определённого возраста, но наша иммунная система не может их подавлять. И встаёт вопрос, эти ли вирусы вызвали болезнь? Или это оппортунистические инфекции, возникшие в результате приобретённого иммунодефицита?
Некоторые говорят, что вопрос не только в присутствии вируса, но и предрасположенности человека. Возможно влияние генетических факторов: я общалась с несколькими людьми, у которых больны несколько членов семьи. Есть гендерное разделение: 70-80% больных – женщины. Может быть также влияние окружающей среды. Мы знаем, что токсины могут изменить иммунную систему и сделать некоторых людей более уязвимыми к инфекции.
Это правда сложно, частично потому что иногда пациенты годами не получают диагноз. Это как теория Большого взрыва: никого не было, когда это произошло, причину сложно выявить, и всё, что остаётся – строить свои теории.
Идея значимости индивидуальных факторов не столь странна, если посмотреть на некоторые инфекционные болезни. До вакцинации многие люди, которые сталкивались с полиомиелитом, были асимптоматичны, другие заболевали и восстанавливались без длительного повреждения, тогда как были те, кто оставался парализованным до конца жизни. Болезни всегда многофакторны, и сказать, что МЭ – «сложное» явление, — это правда, но бесполезная правда.
Каково состояние исследований МЭ?
Есть множество литературы, но практически отсутствует финансирование исследований. В Америке более серьёзное финансирование характеристик мужского облысения, чем МЭ. Проведённые исследования чётко показали, что: 1) у нас проблемы с иммунной системой; 2) есть доказательство неврологического повреждения; 3) есть серьёзная митохондриальная дисфункция; 4) в нашем микробиоме происходит что-то интересное.
Есть порядка 20 способов, как можно выявить эту болезнь с помощью специальных тестов, если знать, какие проводить, но нет биомаркёра. Сперва меня это очень смутило. Что значит, что нет биомаркёра? Но более сложный анализ данных ЭЭГ позволяет нам с высокой точностью определить болезнь. Мы можем смотреть на такие показатели, как цитокин в качестве маркёра, или функционирование естественных киллеров. Мы можем посмотреть на спинномозговую жидкость и митохондриальную функцию. Некоторые из найденных нарушений не уникальны для болезней, но в сумме вероятность того, что X, Y и Z вместе присутствуют у одного человек, и что у этого человека не МЭ, равна нулю.
Но что нам правда нужно, это тест, который может измерить что-то конкретное. Не знаю, будет ли это когда-нибудь, но даже с теми технологиями, которые у нас есть сейчас, если врач направляет на соответствующие тесты и знает, на какие симптомы обращать внимание, думаю, можно было бы поставить диагноз. Этого не происходит, и доктора не знают о науке. Так что в кабинете доктора мне говорят, что у меня «истерия», а потом я говорю с учёными, и для них у меня по-настоящему загадочная и удивительная болезнь. И они говорят мне, вот как твоя болезнь похожа на ВИЧ. А вот так – на рассеянный склероз.
Это правда трагично – есть множество людей, которые из-за этого получают неправильное лечение. Есть люди, которых забирают в психиатрические лечебницы. Есть родители, у которых забирают детей. Есть люди, которые становятся бездомными. Сложно даже представить, насколько сильно разрушает жизнь эта трагедия. Это происходило с рассеянным склерозом, до того как появились аппараты МРТ, и было нормой помещать людей с эпилепсией в психиатрические лечебницы. Так что ничего нового. Уверена, это произойдёт и с другой болезнью, даже когда решится проблема с этой, и так будет происходить, пока не изменится подход к медицине в целом.
Насколько сложно получить диагноз? И что делать, если предполагается, что у тебя МЭ?
Есть несколько признанных докторов и хорошо бы найти одного из них, если у вас есть такая возможность, но скорее всего придётся заплатить из своего кармана, так что затраты могут быть большими. Многие тесты требуют обращения в научно-исследовательскую лабораторию, и это не все могут сделать. Мы брали интервью у некоторых женщин, которые принимали экспериментальное лекарство, которое иногда позволяет достичь невероятных успехов в ремиссии, но стоит $40K.
Нет известного лечения. Пациенты пробуют разное – антивирусные препараты, иммуномодуляторы или Ampligen, экспериментальное лекарство, которое прекрасно работает для некоторых групп людей. Нет магической пилюли. Нужно пробовать, пока не найдёшь, что для тебя работает. Множество самой разной информации. Конечно, есть люди, которым удаётся добиться улучшения с использованием лекарств или посредством диетологического вмешательства, но многие так и не возвращаются к состоянию здоровья, которое было до болезни.
Самое важное – это полноценный отдых, постельный режим. Я бы хотела это знать и получить такой совет, но я была студенткой в разгар суматошного семестра. И в нашей культуре забота о теле правда ценится меньше, чем рабочая этика и измеримый успех. С этой болезнью ты не напрягаешься, не тренируешься, иначе придётся заплатить за это. К сожалению, именно это вам посоветует большинство докторов (тренируйтесь, и вам станет лучше), пусть даже это может привести к ухудшению симптомов.
Что подтолкнуло вас к созданию фильма?
До болезни никогда я не чувствовала себя настолько бессильной и безголосой. Я была в смятении и мне нужно было, куда это выразить. На тот момент я почти полностью потеряла способность писать. Мне хотелось вести дневник, но это было невозможно, и я начала записывать видео на iPhone, как нечто личное, чтобы просто попытаться понять, что произошло. Время шло, я всё больше вливалась в сообщество и поняла, насколько оно огромное.
Я также читала Osler’s Web Hillary Johnson о вспышке в Инклайн-Вилладж, которая произошла в 1984 году, когда мне было 2 года. Я подумала, что прошло 20 лет с того времени, как случилась большая вспышка моей болезни, но социальное пространство вокруг неё, взаимодействие медицинского сообщества и людей с моей болезнью едва изменилось. Ещё я посмотрела фильм, снятый в конце 90-х годов «I Remember ME», и в нём прозвучало доброе послание «Перемены ждут за углом». Тогда я была в старшей школе.
У меня было чувство, что жизнь утекает. Все жили своей жизнью и казалось, словно они в начале перемен, хотя немногое менялось. А я словно жила и ничего не делала, было ощущение, что пройдёт ещё 30 лет, а я буду там же, где сейчас. Я чувствовала, что должна приложить все усилия и сделать фильм, который разрушит привычные взгляды на нас людей. И я подумала, пусть я не голливудская звезда, но у меня есть ресурсы, и хоть я больна, но и рядом не настолько, как некоторые. Я могу двигать руками, дойти до ванной. Этого достаточно!
Я также надеюсь убедить больше учёных, что это не только действительно серьёзная болезнь, которая стоит их внимания (в некоторых случаях она приводит к смерти), но также и удивительная задача. Докторов раздражают загадочные болезни, с которыми сложно иметь дело, но учёные хотят быть на переднем фронте. Думаю, в этом месте мы находимся с МЭ. В науке происходят удивительные вещи при изучении нашей болезни. Это о нечеловеческих компонентах нашего тела – нашем микробиоме – и самых маленьких его частях – нашей ДНК, и обо всём межклеточном, органеллах, белковых кодах, эпигенезе и митохондриях. Мы не только имеем дело с этими системными биохимическими изменениями, которые могут влиять на происходящее внутри клеток, но разные системы взаимодействуют друг с другом через другие системы так, как раньше мы не знали. Это удивительно. И я хочу сказать всем этим учёным – «По коням! В путь».
Раньше вы не занимались съёмкой фильма, как удалось начать?
Я связалась с женщиной по имени Kiran Chitanvis. Она невероятна. Она не работает с документальными фильмами, но пишет сценарии и режиссирует художественные фильмы, что было здорово, потому что я хотела создать творческий документальный фильм.
Как бы не были важны сухие факты, прежде чем говорить о необходимых биомаркёрах или о том, какие изменения нужны, нужно дать людям возможность понять, каково жить с этой болезнью. Не думаю, что это происходило раньше. Это наша цель. Это не конец, но первый шаг.
Не думаю, что большинство людей знают, насколько серьёзна болезнь, в наших культурных представлениях нет места пониманию того, что можно заболеть и никогда не выздороветь, свалиться в 25 лет и 15 лет спустя по-прежнему быть прикованным к постели. Мы понимаем, что такое смерть, но не понимаем, что такое жить в тюрьме из-за болезни. Не думаю, что это преувеличение. Некоторые из наиболее тяжёло больных за семь лет даже не могут сесть на стул или не могут покинуть кровать без того, чтобы вызвать ухудшение.
Как вы начали производство?
Технически мы всё ещё на начальном этапе. Мы запустили кампанию в Kickstarter длительностью в месяц 22 октября. Меньше, чем за три дня, было достигнуто 90% от нашей цели. Это невероятно. Люди говорят об этом, словно это наш единственный шанс или шанс, которого мы могли никогда не получить. Сейчас это толкает нас к тому, чтобы весь бюджет сформировать с помощью Kickstarter. Мы начали снимать некоторые предварительные интервью чтобы для ролика для кампании и только начали погружаться и понимать историю. Мы делаем полнометражный фильм, и съёмки начнутся в начале следующего года.
Мы уже провели два эксперимента. Мы организовали съёмку с женщиной в Торонто, где наняли команду для съёмок у неё дома. Посредством Google Hangout мы смогли быть в комнате с ней и съёмочной командой всё время, общаться о том, что происходит. Так что мы проводим немало удалённого режиссирования, что благодаря Facetime, Skype и iPads сегодня гораздо проще.
Также у нас есть Interrotron. Interrotron это устройство, которое разработал Эррол Моррис для документального интервью. Устройство, напоминающее телесуфлёр, благодаря нескольким камерам позволяет создать впечатление прямого зрительного контакта с режиссёром и как следствие – со зрителями. Здесь мы используем примерно тоже самое, только наши телесуфлёры с зеркалами более современные и мобильные, каждый работает с iPad.
Когда мы снимаем в Нью-Йорке, я нахожусь в соседней комнате, но поскольку я провожу интервью с помощью Facetime, я могу быть где угодно. Я могу быть дома в кровати и послать Kiran в Лондон, пока провожу интервью из Принстона.
Что физически происходит с вами, если вы перенапрягаетесь?
Все мои симптомы усиливаются. Я могу свалиться буквально на ходу. Я могу встать, а моё сердце забьётся в невероятном ритме, как при постуральной ортостатической тахикардии. Для меня это как головокружение. Это происходит и если я ем крахмалистые продукты, потому что у меня серьёзные проблемы с метаболизмом глюкозы, так что я могу переесть клубники, а потом упасть на пол. Часто я не могу дышать, если перенапрягусь. Это не вопрос достаточного количества кислорода в моей крови, хотя дыхание, конечно, страдает от этого. Но скорее мои клетки не могут дышать, потому что не могут вырабатывать энергию в аэробных условиях.
Мне во многом приходится обращаться с собой как с бегуном на долгую дистанцию, ведь именно это я делаю. Бегу марафон. Также я на богатой жирами кетогенной диете, которая была изначально разработана для детей с эпилепсией.
Есть ещё доктора, к которым можно сходить, есть варианты лечения, которые можно попробовать, но понятия не имею, что для меня сработает. И самое невероятное, что ты встречаешь людей, которые болеют 15 лет, пробуют что-то и на 300й раз всё меняется. И я думаю, что важно не терять надежды и продолжать пробовать что-то новое.
Прошло три года. Где вы видите себя, когда вам станет лучше? Вы думали о том, чтобы заняться медициной? Изменились ли ваши представления о вашей жизни?
Я не слишком много думаю о будущем. Думаю, это важно, чтобы оставаться в здравом уме. Я думаю, что необходимо пожертвовать будущим и это происходит даже без того чтобы думать об этом. Это не отказ от надежды: я верю, что мне может стать лучше. Я просто не знаю, когда и как или что будет из себя представлять «лучше». Так что я фокусируюсь на том, что могу сделать сейчас.
Конечно, я всё равно фантазирую о том, что у меня будет возможность попасть в научно-исследовательскую лабораторию и иметь дело с некоторыми гипотезами, которые исходят от пациентов и никогда не проверяются. Есть многое, что могут упускать доктора, которые лечат эту болезнь, и учёные, которые её изучают, потому что у них нет такого доступа к пациентам, который есть у нас. Мы есть у себя, и мы постоянно экспериментируем на себе.
Я люблю рассказывать истории и думаю, что никогда в моей жизни не было ничего настолько магического или наполняющего как съёмка фильма. Это точно не последний мой фильм. Это то, что бросает вызов моему интеллекту и креативности. Мне нравится быть исследователем, нравится академическая работа, но также нравится отдаваться миссии. Это даёт мне возможность воплотить все три сферы. Я верю, что мы сделаем прекрасный фильм, который навсегда изменит положение дел для нашего сообщества.
Это началось как проект, который должен был помочь справиться с происходящим, и стало чем-то настолько больше, чем я, более универсальным, чем моя специфическая болезнь. У меня странное чувство «Это произойдёт, это сработает, потому что должно». Чувство, что если во вселенной что-то не так, что-то несправедливо или неправильно, то этот провал стремится исправиться. Я верю, что вселенная хочет вернуться к гармонии.